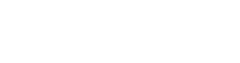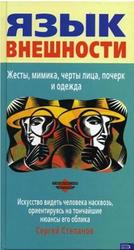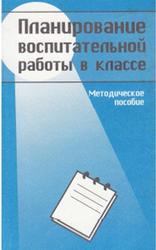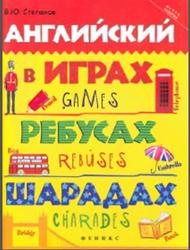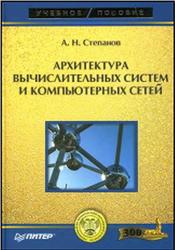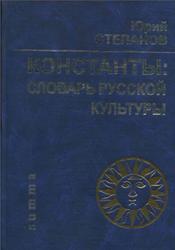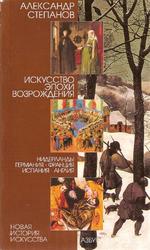Во всем мире неизменным читательским спросом пользуются самоучители жизненного успеха. Многие из них безапелляционно полагают, что успех в первую очередь связан с богатством, материальным благополучием и независимостью. То есть преуспеть — значит разбогатеть. А некоторые авторы и вовсе обходятся без всякой патетики и называют свои книги доходчиво и прямолинейно — «Как купаться в деньгах» (Роберт Грисволд), «Думай и богатей» (Наполеон Хилл), «Делайте деньги» (Ричард Карлсон) и т. д., и т. п. Обратите внимание, что в качестве примеров упомянуты книги, которые и в нашей стране изданы огромными тиражами. Только вот беда — непохоже, чтобы миллионы читателей этих блестящих руководств сумели ими по-настоящему воспользоваться. Кое-кому, конечно, удается разбогатеть, но для большинства финансовый успех остается несбыточной мечтой, порождая лишь горькие разочарования. В чем же дело?